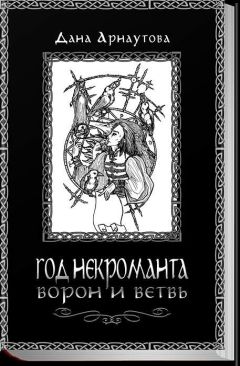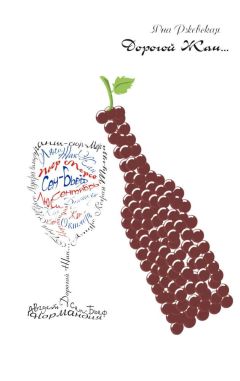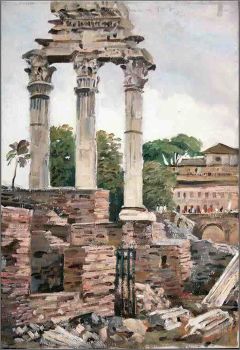Ворон и ветвь - Арнаутова Дана "Твиллайт"
Вереск подняла руку из вечно полной и никогда не переполняющейся чаши, полюбовалась, как стекают с длинных тонких пальцев сверкающие капли. Миг свободы – и они опять падают вниз. А вода так чиста, что на дне даже осадок не собирается уже несколько лет. Ни тебе запаха мха, ни привкуса палых листьев или розового лепестка, принесенного ветром…
– Моя королева…
Вот и голос этот – как вода. Чистая, прозрачная, звенящая вода. Стылая от безнадежности заточения.
– Входи, мой рыцарь.
Шаг из полутени туда, где свечи всегда горят ярко, чтобы сверкали под тонким слоем воды самоцветы – фальшивые звезды. Шаг – к ней. И сразу же, словно боясь, что она оттолкнет словом или жестом, он опустился на колени. Припал губами к подолу платья, вздрогнув судорожно и мучительно. То, что для нее – пустяк, для него – редкая милость. И больно от этого, и грустно, и понимаешь почему-то ту яблоню… Ну зачем ты так, милый рыцарь, друг детства? Верный и печальный, как твоя флейта.
– Зачем? – повторила она нежно, роняя руку ему на плечо и немножко ненавидя себя за то, как обреченно это звучит. – Арагвейн, встань, прошу…
– Не могу, – прошептал он как в лихорадке, и наконец-то в чистейшем родниковом звоне голоса прорвалась и горечь, и терпкая сладость, и страх пополам с восторгом. – Я не могу так больше… Вереск, я люблю тебя. Нет сил смотреть, как он касается тебя. Знать, что ты… что он… Вереск, прогони меня. Прогони, пока не поздно! Год в самом начале, я не дотерплю до Бельтайна. Яд, нож – мне все равно. Пусть казнят, но ты будешь свободна… Ты будешь…
– Чшшш… – сказала она торопливо, тоже опускаясь на колени и заглядывая ему в лицо. – Не смей, слышишь? Зачем мне корона без тебя? Мой звездный рыцарь, моя песня верности… Арагвейн… мой Арагвейн… Все еще будет, слышишь? И верность, и счастье, и свобода… Только потерпи, прошу…
Она уговаривала его, как мать – плачущего ребенка, и, будь это кто-то другой, ему не миновать ее тихого, запрятанного в немыслимые глубины души презрения, но это был Арагвейн… И ей тоже стало больно. И ненадолго появилась безумная и сладостная мысль забыть придуманное долгими ночами и днями, когда она пила безвкусную воду из родника королевы. Еще немного – и повелитель сидхе отпустит ее, как отпустил уже не одну бесплодную, не способную подарить наследника или наследницу. И пусть всё чаще шепчут, что иссякла мужская сила самого короля, его власть еще крепка. Слишком мало еще тех, кто готов открыто вспомнить древний закон, гласящий, что от крови растет трава.
А она сможет уйти. Вернуться – да хоть бы и домой. Или стать Вереск Терновник, уж там-то ей точно хватит любви и преклонения на всю жизнь. И, кто знает, не окажется ли новый брак плодовит… И Арагвейну не придется бросать меч перед троном короля…
Но она знала, что не сделает этого. Не ради власти, без нее она смогла бы обойтись, как обойдется без воды из каменной чаши, если у нее снова будет ее родник. Пусть не тот, а другой, но живой! Настоящий… Она не сможет обойтись без того, что может дать ей только власть. Только власть – руль, способный развернуть огромный прекрасный корабль, несущийся на рифы. На палубе пир, и струны арфы звучат слаще пения птиц, и рассвет встает над морем, такой дивный, что хочется плакать от его совершенства. Но это чужой рассвет! А корабль древнего величия сидхе уже потерял почти все свои паруса, в днище течь, а за смехом и песнями все чаще прячется отчаянное веселье обреченных.
И ради того, чтобы развернуть этот корабль, увести его в новые воды, чистые, хоть и бурные, она отдаст, если потребуется, и свою жизнь, и любую другую!
– Я люблю тебя, – сказала Вереск, зная, что не лжет ни единым звуком, ни единым движением сердца.
Просто потому, что боги всегда требуют самую высокую плату, и только любовь – достаточная цена, если хочешь изменить их волю.
– Я люблю тебя, – повторила она, касаясь его лихорадочно-жарких губ легко и повелительно. – Жди и верь. Ты сразишь его так, как это достойно рыцаря и моего любимого. Меч предателя ржавеет, детям бесчестного убийцы не будет счастья…
Пришлось улыбнуться – через силу, – говоря о детях, и Арагвейн вспыхнул от этого намека, слишком явного, чтобы в будущем главе Дома Терновника не заплескались гордость и счастье. Разве может он сомневаться, что она не родила королю лишь потому, что не любит его? Потому что хочет детей от совсем другого мужчины…
И, когда он ушел, успокоенный и снова готовый ждать, Вереск долго сидела молча, обессиленная, как, говорят, бывают обессилены женщины после родов. Знать бы еще, что она сейчас родила, не величайшую ли беду для сидхе?
Потом свеча, отмеряющая время, догорела до нужной отметки, и пришлось очнуться. Плеснуть в лицо водой из ненавистной чаши, и пусть языки облезут у тех, кто говорит, что красоту королевы можно смыть водой. Расчесать волосы, заплести косу… И улыбнуться холодно и спокойно тому, кто входит точно в назначенный час, тоже опускаясь на колени. Словно отражение в колеблющейся воде – похожее и разное одновременно.
– Моя королева, – проговорил он теми же словами, но голос был высок и звонко-четок, наполнен страхом и надеждой.
– Мой рыцарь, – отозвалась Вереск с ленивой уверенностью игривой кошки, еще только решающей, когда выпустить когти. – Вы все-таки пришли?
– Как я мог не прийти? – пролепетал он, стоя на коленях, и в красивых больших глазах, таких золотисто-темно-медовых, заплясали огоньки свечей. – Моя королева, вы обещали помочь…
– Обещала? Нет, мой мальчик, я лишь сказала, что хотела бы помочь. Но ты в самом деле веришь, что это возможно? Твоя сестра сделала ужасную глупость, просто невыносимо… глупую. Даже и не знаю, чем я могла бы исправить сделанное?
Вот, сейчас. Думай! Если я не обманулась и ты не так глуп, как кажешься, ты найдешь, что сказать. Если же глуп, для этой игры точно не годишься.
– Вы можете, – выдохнул юный Вьюнок. – Моя королева, вы можете всё! И вы не стали бы давать мне ложную надежду. Значит, дело только в цене. Назовите ее, и если я в силах заплатить – я расплачусь!
Прекрасно, мальчик. Не идеально, но ты еще слишком нетерпелив, чтобы играть в такие игры на уровне мастера. Или, может, эта нетерпеливость – тоже маска?
– Эту цену ты вряд ли захочешь платить, – уронила она, и слова упали, как капли ртути, а не воды, настолько они были тяжелы.
– Назовите ее, – повторил Вьюнок, бледнея так, что на тонкой, нежной коже проступили веснушки.
– Хорошо. Ты помнишь того, кто повстречался нам полнолунной ночью на мандрагоровой поляне?
Судорожно сглотнув, он кивнул. Слишком много страха – это хорошо или плохо? Пряная приправа или отбивающая вкус дичи уксусная кислятина?
– Назови его одним словом, – потребовала Вереск быстро и жестко, не давая подумать. – Одним, ну? Какой он?
– Жестокий!
– Не то. – Она покачала головой, даже в разочаровании не позволяя себе быть некрасивой. – Еще?
– Сильный? Смелый? Одинокий?
– Последнее – лучше всего. Остальное – лишь слова. Пустые слова… Но и это не лучшее слово, которым можно его назвать. Имя ему, мой Вьюнок, – Любопытный.
Юноша-паж резко выдохнул, в глазах застыли удивление и попытка осознать. Потом медленно кивнул. Неужели понял?
– Запомни, – так же бесстрастно проговорила Вереск, – он не ломает игрушки до тех пор, пока не понял окончательно, как они устроены. Но для того, чтобы понять, он их…
– Разбирает, – бесцветно откликнулся паж, и Вереск подумала, что, может быть, он и выживет.
Она кивнула, и этот кивок мало что мог бы добавить к страшным сказкам, которые ходят в холмах о Кереннаэльвене Проклятом, но окаймил их, завершил, как последний мазок – страшную, но гениальную картину.
– Что я должен сделать? – спросил Вьюнок, и Вереск оценила его спокойствие.
– Отправиться к нему, – сказала она мягко и ровно. – Сказать, что ты мой подарок до того времени, когда я смогу позвать его в холмы не как изгнанника, а как своего рыцаря. Подарок и залог. Можешь сказать, что мне было бы огорчительно узнать о твоей смерти, хотя я не уверена, что это поможет. Знаешь, он никогда не боялся меня огорчить.